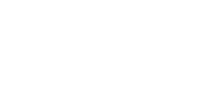Личностные сомнения могут послужить поводом начать сомневаться в себе и в своих знаниях, искать истину. У человека, которому свойственна нетвердость ума, возникает страх сомнений, например, из-за ненависти к науке, а заодно и к новым знаниям. Кроме того, безусловно, встречаются ещё и такие люди, которые настолько мощные заборы построили вокруг себя, что сквозь них не может просочиться никакое мнение. У них имеется только лишь два варианта восприятия действительности: «моё» и «неправильное».
Анализируя смысловое значение слова «сомнение», вначале замечаешь вполне понятную его составляющую «мнение», однако вызывает непонимание приставка «со». В буквальном смысле она, скорее всего, означает нечто совместное, совокупное. Наиболее вероятно происходящее от некоего столкновения нескольких сил, или, как в данном случае, мнений. Которые, противореча одно другому, довольно быстро образуют мыслительный бардак, обычно называемый спором, или, как теперь модно говорить: «ток-шоу». То есть, ситуацию нарастающей противоречивости, конфликтности, обязательно гарантирующую прогрессирующую тупиковость.
Кстати, это довольно чётко говорит о том, что понятие демократии было не только давным-давно известно человечеству, но и имело весьма низкий, если не сказать низменный, а ещё точнее, заведомо склочный социальный авторитет. Короче говоря, воспринималось, как процесс создания общенародных склок, противостояний и т.д., неизбежно порождающих коллективное столкновение мнений, в ходе развития которого такие понятия, как «истина» и «жизненная эффективность», чем дальше, тем всё меньше и меньше интересовали демократов.
Ах, если бы, ах, если бы в споре можно было всего лишь трусы проспорить…
При этом, также не стоит удивляться тому, что популярность любых общественных мероприятий, являющихся местами, аренами, где разыгрывались споры и противостояния, а значит порождались сомнения, из века в век вплоть до наших дней никак не падала, а наоборот росла. Как говорится, какие люди, такие у них нравы и забавы. Ну, или точнее говоря, способы самоликвидации, в которых они, как видели, так и продолжают видеть путь своего возвышения, своего величия. Оно ведь у них стандартизировано заупокойное. Ну, согласитесь? В нашем обществе издавна принято думать не о благополучии для сегодняшнего, и тем более, завтрашнего, а о том, что можно будет вспомнить, особенно, перед смертью. Причём, такого, чтобы от мыслей об этом, об этих событиях так дух даже на смертном одре захватывало, чтобы у умирающего язык буквально не мог повернуться в сторону сомнений по поводу неправильности его уходящего бытия. И не от какого-то там бессилия, а от радости понимания и осознания не зря прожитой, а значит, по факту тупо, но при этом чрезвычайно приятно убитой им в союзе с остальным обществом жизни.
Соответственно, как вы понимаете, повальное, в упор не признаваемое сумасшествие свойственно нашему социуму издавна. Больше того, оно является ключевой основой его противоречивого, абсурдного по сути, однако, от чего-то всё равно нарочито пафосного, повсеместно возвышаемого и тиражируемого в виде культа героев и прочих мега оторв, существования. Если у вас от осознания данного форменного всеобщего ужаса не происходит пробуждение хотя бы элементарных личностных сомнений по поводу неправильности столь явно кошмарного расклада, то вам реально не позавидуешь. Зато официально, имеется ввиду, публично, не исключено, что вы успешно числитесь в ряду тех, кому, как говорят, жизнь удалась, несмотря на то, что конец её по-прежнему тупо неминуем. Провалы героям не помеха, их интересует лишь качество переживаемой, а заодно и убивающей их и всё вокруг агрессии.